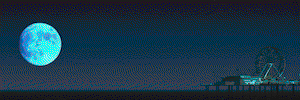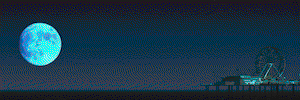Я пишу эти строки не в надежде на понимание или, упаси Господь, на спасение. Я пишу их, потому что разум мой, некогда отличавшийся своей ясностью, теперь превратился в вязкую, темную трясину, и лишь судорожное выплескивание этих образов на бумагу дает мне иллюзию контроля. Все началось с моей научной работы, диссертации по маргинальным группам в депрессивных регионах России. Сухая, академическая тема, которая завела меня в такие бездны, что сам Иероним Босх счел бы их плодом больного воображения.
Моей целью был городок Кислоярск, точка на карте, затерянная среди болот и вырубленных лесов Н-ской области. Стандартный набор: разваленный колхоз, спивающийся остаток населения, бездорожье и всепроникающая тоска. Но в архивах я наткнулся на странные, обрывочные упоминания о некоем «Городке» или, иначе, «Куполе», построенном еще в хрущевские времена как временное жилье для торфоразработчиков. Временное, как водится, стало вечным. Но отчеты местных участковых из 80-х и 90-х годов говорили об этом месте с суеверным ужасом. Они описывали его не просто общежитие, но как нечто иное. Нечто, что они называли «Бичесфера».
Прибыв в Кислоярск, я ощутил некий ужас на физическом уровне. Он висел в воздухе, смешиваясь с запахом гниющей листвы и печного дыма. Местные жители, узнавая о цели моего визита, замыкались или отмахивались с брезгливым страхом. «Не ходи туда, сынок, – сказала мне морщинистая старуха у единственного магазина, – там же не люди. Это бичи». Она произнесла это слово – «бичи» – не как социальный ярлык, а как название вида, отдельного и чуждого человечеству.
«Бичесфера» возвышалась на окраине Кислоярска, на краю заброшенного торфяного карьера. Это было колоссальное, неправдоподобное сооружение. Огромный, почерневший от времени и непогоды купол, собранный из тысяч сгнивших досок, бревен, листов ржавого железа и шифера. Он напоминал гигантский череп неизвестного существа, наполовину вросший в землю. Ни окон, ни труб. Лишь один низкий, темный проем, похожий на разинутый в безмолвном крике рот. Вокруг не росло ничего, кроме чахлого бурьяна и крапивы. Земля была выжжена, и пропитана чем-то едким.
Мой проводник, местный спившийся лесничий, согласился довести меня до входа за две бутылки дешевой водки. Дальше идти он наотрез отказался. «Я к бичам не ходок, – прохрипел он, втягивая голову в плечи. – Они там… они живут по-своему. У них там... сфера». Он сплюнул на землю и быстро зашагал прочь, не оборачиваясь.
Я остался один перед этим зияющим провалом. Изнутри тянуло таким концентрированным смрадом, что у меня заслезились глаза. Это была не просто вонь нечистот. Это была симфония гниения: кислая вонь старой мочи, тяжелый, удушающий запах фекалий, сладковатый трупный дух разложения и, поверх всего, резкий химический выдох дешевого спирта.
Собрав волю в кулак и зажав нос платком, я шагнул внутрь, включив мощный фонарь.
Луч света вырвал из абсолютной тьмы зрелище, к которому не мог подготовить ни один отчет, ни одно воображение. Внутри Бичесферы не было ничего. Ни перегородок, ни комнат, ни мебели. Просто огромное, пустое пространство под куполом, уходящим в невидимую высоту. А внизу… внизу была голая земля. Вернее, то, что когда-то было землей. Теперь это была сплошная, колышущаяся масса черного, блестящего, как антрацит, кала. Она покрывала все, насколько хватало взгляда, образуя небольшие холмы и впадины, из которых поднимался пар. В воздухе висела плотная завеса из мириадов жирных, черных мух, их гудение сливалось в единый, низкий, вибрирующий звук.
В этой массе жили бичи.
Сначала я принял их за кучи тряпья. Но потом мой луч выхватил одно тело, другое, третье. Они не лежали на этой черной субстанции. Они будто были ее частью. Бичи, десятки, а может, и сотни бичей, были погружены в этот черный кал по пояс, по грудь. Некоторые утопали в нем полностью, оставляя на поверхности лишь макушку с клочьями сальных волос. Их кожа имела тот же землистый, нездоровый оттенок, что и окружающая их жижа. Они не двигались. Они просто были.
Я посветил вглубь. Вдалеке, в центре этого ада, я увидел некое подобие активности. Несколько бичей медленно, ритуально двигались. Один из них, присев на корточки, извергал из себя новую порцию жидкого, черного вещества. Это не было актом нужды. Это было священнодействие. Он создавал «кал-тент», как я позже услышал из обрывков их бормотания. Он вносил свою лепту в вечность Бичесферы. Другие бичи, находившиеся рядом, издавали одобрительное, утробное урчание. Они не обсуждали, хорошо это или плохо. Это просто было.
Страх сменился ледяным, исследовательским любопытством. Я шагнул ближе, стараясь держаться узкой полоски относительно сухой земли у входа. Я попытался заговорить с одним из них, тем, что был ближе всего. Его лицо, заросшее щетиной, было лишено всякого выражения. Глаза, мутные и бесцветные, смотрели сквозь меня.
«Здравствуйте, – мой голос прозвучал неестественно громко в этой гулкой тишине. – Я журналист. Я хотел бы узнать, как вы здесь живете?»
Бич медленно, как во сне, повернул голову. Его губы, покрытые засохшей рвотой, шевельнулись.
«А че? – прохрипел он, и от этого звука у меня по спине пробежал холодок. Это был не голос человека. Это был скрип гнилого дерева, бульканье трясины. – Нормально живем. В своей сфере. Понимаешь?»
В его голосе не было злобы. Лишь безмерная, вселенская усталость и снисходительность к моему невежеству. Он считал меня, чистого, здравомыслящего человека, идиотом, который не понимает фундаментальных законов бытия. Для него этот купол, покрытый изнутри слоями черного кала, был не тюрьмой, а колыбелью. Не адом, а единственно возможным раем.
Я посветил фонарем на стену купола. Она вся была покрыта застарелыми, окаменевшими потоками того же черного вещества. Слои наслаивались друг на друга, создавая причудливый, отвратительный рельеф, похожий на карты неизвестных континентов. Я понял, что масса на полу и наросты на стенах – это одно и то же. Это их история, их культура, их плоть. Бичесфера не была построена из дерева и железа. Она была построена из бичей и их кал-тента. Она была живой.
Меня охватила паника. Я направил луч в самый дальний угол, пытаясь разглядеть границы этого места. И увидел нечто, что заставило мой рассудок пошатнуться. Там, в самой гуще, где черный кал был особенно глубок, не было отдельных фигур. Там была единая, медленно пульсирующая масса. Она слегка колыхалась в такт гудению мух. И в какой-то момент из этой массы медленно, как из теста, начало формироваться лицо. Огромное, размытое, состоящее из той же черной субстанции. Оно не имело глаз, но я чувствовал его взгляд. Взгляд древний, как сама грязь, как первое гниение на этой планете. Это был коллективный разум бичей, сама сущность Бичесферы. Она смотрела на меня с безразличием бога, наблюдающего за суетой муравья.
Раздался влажный, чмокающий звук. Один из бичей, тот, что говорил со мной, начал медленно погружаться в черную жижу. Он не сопротивлялся. На его лице было выражение блаженства, возвращения домой. Он сливался со своей средой, становился частью вечного, неразрывного целого. Черный кал смыкался над его головой, и на поверхности остался лишь пузырек воздуха. Так бичи жили вечно. Они не умирали. Они просто растворялись, становясь удобрением, питательной средой для этого вечного цикла.
Я закричал. Мой крик потонул в густом, вязком воздухе, в гудении мух и утробном урчании. Я бросился вон из этого проклятого места, спотыкаясь и падая, не разбирая дороги. Я бежал, пока легкие не начало жечь огнем, а ноги не подкосились.
Я уехал из Кислоярска в тот же день. Я пытался забыть. Я сжег все свои записи, пытаясь убедить себя, что это был лишь бред, галлюцинация, вызванная шоком и ядовитыми испарениями. Но я не могу.
Мне кажется, что теперь я стал понимать. Бичесфера – это не социальное явление. Это нечто иное. Это энтропия, принявшая разумную форму. Это безымянный, черный бог небытия, который нашел своих верных жрецов. Бичи – не люди, опустившиеся на дно. Напротив, они – авангард. Они те, кто первыми постиг великую истину: вся борьба, все стремления, вся цивилизация – лишь суета. Есть лишь один путь, одно конечное состояние. Покой. Слияние с первозданной грязью. Вечная жизнь в теплом, уютном, черном кале.
Иногда по ночам я просыпаюсь в холодном поту. Мне кажется, что моя комната пахнет тем самым смрадом из Бичесферы. Мне кажется, что под моей кроватью пол не твердый, а вязкий и черный. Я подхожу к зеркалу и вглядываюсь в свое отражение, и мне чудится, что моя кожа приобретает землистый оттенок, а в глазах появляется та самая мутная пустота.
Страшнее всего не то, что я видел. Страшнее всего то, что крошечная, отвратительная часть моего сознания, изуродованного знанием, начинает их понимать. Иногда, когда мир кажется особенно бессмысленным и жестоким, я ловлю себя на мысли, что там, в Бичесфере, есть своя логика. Своя гармония. Свой покой.
Я купил билет обратно в Кислоярск. Я не знаю, зачем. Или знаю, но боюсь себе признаться. В моей сумке лежит не диктофон, и не блокнот. Там лишь несколько бутылок самой дешевой водки. Я просто хочу еще раз заглянуть внутрь. Просто посмотреть. Ведь, в конце концов… а что? Там сфера. Может, я просто еще не понимаю ее до конца.